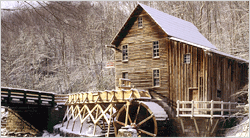| ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ |
МОЕ СКАЗАНИЕ О ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ
ДО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА И ПОСЛЕ
Юрий Островский
Раннее летнее оренбургское утро. Яркие солнечные лучи обещают жаркий воскресный день. Из тарелки репродуктора на стене нашей квартиры и из распахнутых окон соседних квартир несутся бодрящие песни: «Эй, вратарь, готовься к бою…», «Броня крепка и танки наши быстры…», «Нам песня строить и жить помогает…». Они из популярных и полюбившихся всем нам кинофильмов «Вратарь», «Трактористы», «Цирк».
Взрослые заняты своим делом. С Урала вернулся после ночного лова заядлый рыбак Рашид Хусаинов. Он живет с большой своей семьей в нашем дворе на углу улиц Кирова и Кобозева. И ныне улицы есть, а вот двора уже давно нет… Улов у Рашида, как всегда, богатый, в корзине много рыбы и раков. И, как всегда, Рашид щедро раздает его всем жильцам нашего двора.
- Подходи, пожалуста! Бери, пожалуста! Всем хватит! Мне тож хватит! - громко кричит он, и на его скуластом, смуглом от природы, обветренном лице сияет улыбка доброго человека.
Тотчас же вокруг него собираются люди, дивясь его обильному улову. Выбирали себе рыбу. Мы же, мальчишки, с любопытством рассматривали раков и, отобрав самого огромного из них, просили отдать его нам. Отказа никогда не было.
- Ты, Рашид, за свою рыбу хотя бы деньги брал, - иногда говаривали женщины, - а то, право, неудобно брать и не платить.
- Зачем так говоришь! Зачем деньги брать? - начинал кипятиться тот, - шайтан с ними! Река большой! Рыбы много-много! Всем хватит. Сегодня брал ты! Завтра возьму я! Тебе хорошо - мое тож якши!
У нас каникулы. Времени свободного уйма, да и планов полным-полно. Надо сбегать на водную станцию, что на противоположном берегу Урала – там, где начинается Зауральная роща. Искупаться. Позагорать. Покататься на плоту, а если удастся, то и на лодке. В парке железнодорожников покачаться на гигантских качелях. Спрыгнуть с парашютной вышки. Погонять с Лешкой Семеновым голубей и, конечно же, с ребятами из других дворов сыграть в футбол.
То было 22 июня 1941 года. Время стирает многие события, забываются люди, выветриваются годы, но есть такие яркие дни, картины, что навсегда остаются в памяти. Я живо представляю себе мой родной Оренбург 1930 - 40-х годов. Город, в котором жили, трудились и поныне живут и трудятся русские, татары, башкиры, евреи, поляки, немцы, люди многих других национальностей. И какие это были прекрасные люди! Со мною ходили в детский сад, а затем учились в школе сыновья и дочери этих людей: Эдик Котов, Юра Бочорадзе, Жора Попов, Эдик Вольф, Гена Шехтман, Галя Могильникова, Муза Коваленко, Миша Капланский, Лида Лазарева, Витя Борцов и многие другие. Я помню всех моих друзей и прошу простить, если я не назвал кого-то из них.
…У нас во дворе произошла страшная трагедия – из окна третьего этажа выбросилась и разбилась насмерть наша общая любимица тетя Ядвига Лашкевич. Она лежала в луже крови ярко-красного цвета. Такой же она была у Леши Дубошева, когда он зимой при колке дров случайно топором отрубил себе палец… Прижавшись друг к другу, мы окружили двух дочерей тети Ядвиги и, как могли, успокаивали их. На мое лицо упало несколько слезинок старшей – Брони, и эти слезы были такими же солеными и чуть горькими, какими они были у меня. Цвет кожи у людей может быть разный, но кровь и слезы у нас у всех одинаковы.
Я вовсе не собираюсь идеализировать нашу тогдашнюю жизнь. Я могу говорить только о себе и о тех мальчишках и девчонках, которых хорошо знал и которые были моими друзьями. В нашей жизни было всякое. Были и трудности. И если все плохое мы с моими товарищами преодолели и состоялись – Юра Бочорадзе стал профессором, доктором военных наук, Жора Попов – командиром подводного ракетоносца, Гена Шехтман – кандидатом медицинских наук, ныне один из старейших рентгенологов Оренбурга, Витя Борцов – народным артистом России, актером МХТ, Галя Могильникова –заслуженным работником культуры Татарстана, основателем музея изобразительных искусств в Казани, Эдик Котов – выдающимся военным инженером, Лида Лазарева – директором Оренбургского краеведческого музея, - то в этом, прежде всего, высокая заслуга наших родителей, школьных учителей и тех добрых моих земляков – оренбуржцев, которые согревали нас своим теплом подобно знаменитому оренбургскому платку.
Я с чувством глубокой признательности вспоминаю директоров школ, в которых учился: М.Н. Толстикова, Н.Г. Гомзикова, милую и всегда внимательную к детям библиотекаршу из детской библиотеки Дома пионеров Людмилу Николаевну (если не изменяет память), которая, зная наши увлечения, с любовью подбирала интересную для нас литературу, и многих–многих других. Большинство из них, к сожалению, ушло из жизни, но осталось в моей памяти…
- Я записала тебя в школу, - сказала мне мама, - у тебя будет учительница Евдокия Васильевна Меркурьева. У нее, когда мне было столько же лет, сколько тебе, училась я сама.
И вот началась моя учеба у Евдокии Васильевны. В ту пору она была уже пожилой женщиной. Небольшого роста, с седыми, красиво и аккуратно уложенными в пучок на затылке волосами, в темном платье с отложным белым воротничком и с такими же белыми манжетами. С нами она всегда была вежливой, но строгой. На ее уроках мы занимались правописанием. Учились правильно держать в руке карандаш или ручку. Скучное и монотонное занятие, тем более для нас непосед-мальчишек. И вот в какой-то момент, только ей одной известный, она говорила: «А теперь, дети, подойдите к пианино и послушайте, что я вам сыграю». Как она играла! «Это музыка Чайковского из балета «Лебединое озеро»… А это «Лунная соната» Бетховена… А это…». Какой там Бетховен, какой там Чайковский! Затихали все, даже известные шалуны, очарованные впервые услышанными звуками дивной музыки, которая являлась из неведомого черного ящика, называемого пианино. И так было почти всегда на ее уроках. А однажды смотрю кинофильм «Чапаев», и белогвардейский полковник играет на пианино. Очень знакомая музыка… Да это же «Лунная соната» Бетховена!..
На углу улиц Кирова и 9-го Января стояло большое серое здание. Полуподвальные оконные ямы накрыты мощными чугунными решетками. Вокруг ажурное металлическое ограждение высотой в метра полтора. По углам днем и ночью стоят часовые. Останавливаться у здания категорически запрещено. Иногда зимой из приоткрытых форточек полуподвальных окон, тоже с решетками, валит густой пар и доносятся приглушенные голоса. Прохожие молча проходят мимо. Жизнь сверху и жизнь внизу. Меня и моих друзей разбирает любопытство. Догадываемся: там тюрьма. Значит, там сидят преступники. Но почему здесь, в центре города, а не в той, что недалеко от Урала? Кто такие преступники, и почему эти сидят в одной тюрьме, а те в другой? Взрослые обычно отвечали, что это воры, грабители и убийцы. Ну, если так, то там им самое место! «Честного человека за решетку не посадят, - думаю я засыпая. – Ведь вот, к примеру, мой отец или его друзья и товарищи…»
Сквозь ранний утренний сон слышу приглушенные разговоры. Из коридора нашей коммунальной квартиры доносится стон и плач. Ничего не могу понять. Мама сидит за столом. На глазах слезы. Отца в комнате нет.
- Что случилось, мамочка, почему ты плачешь? - с тревогой спрашиваю ее. – А где папа? Куда он ушел?
- Тихо, тихо! Успокойся. Папа скоро вернется. У нас в доме случилась беда, - сдерживая волнение, проговорила мама. – Почему-то арестовали дядю Зигмунда. Папу вызвали туда.
Нашими соседями была польская семья Лашкевичей. Зигмунд Альбертович – высокого роста, несколько сутулый, с рыжеватыми волосами, зачесанными на бок. Добрая улыбка никогда не сходила с его лица. Мягкий, приятный голос с небольшим акцентом. Все это вместе взятое вызывало к нему симпатии не только взрослых, но и детей. Он жил с женой – тетей Ядвигой и двумя дочерьми – старшей Броней и младшей Вандой. Работал фармацевтом.
Пытаюсь выйти в коридор и посмотреть, что там происходит, но мать не пускает. Какое-то ранее не ведомое чувство заполнило каждую клеточку тела. Страх? Вероятно, да! Однако любопытство берет свое. Подбегаю к окну. Память мгновенно фиксирует: из подъезда в окружении военных вышел дядя Зигмунд с опущенной головой. В руке небольшой узелок. Он оглянулся, но его быстро втолкнули в машину, прозванную «Черным вороном», и она скрылась за углом. Стон и плач в коридоре усилились. Вскоре вернулся отец. Увидев его, я был поражен. Он молча опустился на стул, положив руки на стол. В них была заметна дрожь.
- Тебе, сынок, - медленно произнес он, - туда ходить не надо. Дядю Зигмунда арестовали, я думаю, произошла какая-то ошибка.
- Папа, а за что его арестовали? Он что – вор или враг нашего народа?
- Да никакой он не вор, а тем более не враг народа, - уверенно произнес отец, - здесь много неясного и непонятного. Ведь я знаю его уже много лет.
- Папа, а зачем тебя вызывали туда?
- Меня спросили, что я знаю о дяде Зигмунде.
- Тебе было трудно?
- Очень и очень! Я сказал, что знаю его как честного человека.
- Папа, а тебя могут арестовать, как дядю Зигмунда?
- Сейчас трудно что-то сказать. Время очень тяжелое. Ты уже большой и должен быть готовым ко всему.
- А мне можно дружить с Броней и Вандой?
- Конечно! Вы, дети, здесь ни при чем. Веди себя с ними и тетей Ядвигой так, будто у них ничего не произошло, и не расспрашивай их ни о чем.
Конечно, кое о чем мы догадывались, но много не знали. Сомнения были особенно сильными, когда такое совершалось с друзьями наших родителей, со взрослыми, которых мы знали и считали хорошими людьми. Вскоре в нашем классе не приняли в пионеры трех наших товарищей. Мы поняли, что произошло, и на следующий день пришли все без галстуков. Что там делали наши вожатые, не знаю, но вскоре эти ребята все же стали пионерами…
В тот памятный день 22 июня 1941 года около 14 часов внезапно прервалась музыка, лившаяся из репродуктора, и прозвучали необычные слова: «Говорит Москва! Передаем выступление заместителя председателя Совета народных комиссаров, Народного комиссара по иностранным делам Вячеслава Михайловича Молотова». Еле улавливаю и понимаю значение слов: «Германия вероломно напала на нашу Родину… Наше дело – правое… Враг будет разбит. Победа будет за нами!» До сих пор помню, как отец после короткого выступления Молотова тихо произнес: «Это война!». Он куда-то позвонил и тотчас же ушел. Война! О ней знали. Она уже бушевала на просторах Европы и Азии, но в то, чтобы она оказалась вдруг совсем рядом, просто не верилось. С этого часа моя жизнь, как и жизнь всех советских людей, поделилась на довоенное время, военное лихолетье и послевоенные годы. Для меня оно уложилось в школьную десятилетку 1937 - 1947 годов.
…25 июня 1941 года, 7 часов утра. Станция Оренбург-2. У вагонов много отъезжающих и провожающих. Объятия… Поцелуи… Слезы… Отец что-то говорит маме. Еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. С трудом понимаю его слова. «Да, папочка!.. Буду, папочка!..». И вот протяжный последний гудок паровоза. Последний вагон уходящего поезда, а дальше – неизвестность и ожидание.
******************************
Конец июня. Июль. Август. Сводки Совинформбюро одна страшнее другой. «После ожесточенных и упорных боев с превосходящими силами противника наши войска отошли на заранее подготовленные рубежи и оставили Брест…» Затем в сводках замелькали Минск, Смоленск, Новгород, Псков, Гомель, Днепропетровск. В это трудно было поверить. Ведь мы на сборах пели «Если завтра война…», «Броня крепка и танки наши быстры…». Нам говорили, что «на удар врага мы ответим сокрушительным двойным ударом». Что же произошло? Ведь так не должно было случиться! На душе муторно, да еще от отца ни слуху ни духу.
В городе появилось много эвакуированных. Мама, как и многие оренбуржцы, взяла к нам на подселение Веру Анатольевну Кудрявцеву с дочкой. Они из Минска. Рассказывают о тех муках, которые им пришлось перенести, пока они добрались до Оренбурга. Мама поделилась с ними кое-какой одеждой. Стало трудно с продуктами, многие продовольственные магазины закрылись. Были введены карточки, на которые выдавалось в сутки 500 граммов хлеба работающим и 300 - 350 граммов – иждивенцам. И еще некоторые другие продукты – сахар, сливочное масло, крупы, мясо – на полмесяца, да и то за ними надо было отстоять длинные очереди, часто занимая их с вечера. Конечно, этих продуктов не хватало. Иногда их нормы уменьшались, а то и вообще карточки не отоваривались, и люди вынуждены были продавать или менять свои вещи на «толчке», чтобы докупить хоть какие-то продукты на рынке. А они там стоили недешево. Всем было трудно, а нам, детям, и подавно. Порою приходилось ограничивать себя кусочком хлеба и стаканом горячей воды. Диву даешься, как нашим мамам и бабушкам удалось таким мизерным набором продуктов кормить нас и еще питаться самим. Они, часто недоедая, щедро делились с нами.
Во многих школах разместили госпитали, эти школы были закрыты или объединены, и нам приходилось заниматься в две-три смены.
Особенно трудно стало зимой 1941 года. Морозы стояли под 30 градусов, а иногда и более. В квартирах было холодно. Дров и угля достать невозможно, поэтому люди в основном обогревались небольшими металлическими печками, прозванными в народе «буржуйками». Пока горит огонь – тепло. Спали не раздеваясь. Часто отключали электричество, и нам приходилось пользоваться керосиновыми лампами или свечами. Мама стала работать на фабрике по производству парашютного шелка. Уходила рано и приходила очень поздно. Письма от отца были редкими. С тревогой встречал я, да и все жильцы нашего двора, тетю Полю-почтальона. Если письмо треугольником, слава Богу! Значит, все в порядке. Значит, отец, брат, сестра там, на фронте, живы и здоровы. Улыбки. Поздравления. Слезы радости. Расспросы. Ну, а если письмо конвертом, значит, пришла беда – кто-то из родных погиб или пропал без вести. Горькие слезы. Рыдания. Причитания. Кто-то кого-то успокаивает, уговаривает. Безучастных к горю нет.
Трудными оставались 1942 – 1943 годы, и все же стало немного легче. Люди как-то попривыкли к трудностям. Сложился военный быт, а главное, конечно, - долгожданные победы Красной армии в битвах под Москвой и Сталинградом. В госпиталях все так же много раненых.
Замечаем, что в городе поубавилось военных, одетых в отличительную форму с орлом на головном уборе. Мы, мальчишки, знаем, что это солдаты и офицеры Войска польского. В 1941 - 1942-м в Оренбурге и Бузулуке шло формирование польских частей. В городе появились американские автомашины «виллис». Попробовали мы и американскую тушенку, и яичный порошок. В 1943 году в школах ввели раздельное обучение девочек и мальчиков, о чем некоторые из нас сожалели, а некоторые радовались. Открылись два училища – ремесленное и железнодорожное, в которые принимали ребят 13 - 14 лет. Там они учились, находясь на полном государственном содержании.
Помню, что мы старались всячески помогать взрослым. Собирали лекарственные травы, помогали копать огороды, а по осени убирать урожай. Ходили мы и в госпиталя, помогали раненым писать письма. Выступали перед ними с номерами художественной самодеятельности. Расчищали зимой на улицах и в скверах снег, убирали мусор, но особой нашей заботой, как у «тимуровцев», были семьи фронтовиков. Активно участвовали мы в сборе подарков фронтовикам, в комсомольско-молодежнных воскресниках, средства от которых отчислялись в Фонд обороны. Когда же весной 43 года Урал из-за половодья разлился на многие десятки километров, и возникла угроза сноса льдом железнодорожного моста, соединяющего Центр с Азией, и пришлось возле него взрывать полотно дороги, а затем в кратчайшие сроки восстановить движение, мы помогали железнодорожникам в земляных работах. И делали это не хуже нашего любимца Павки Корчагина!..
Теперь впору рассказать о моем закадычном друге Мише Капланском. Вместе с ним я бегал по улицам Оренбурга. Вместе мы купались и загорали на Урале. Соорудив шалаш в Зауральной роще, дневали и ночевали в нем, питаясь рыбой и раками, которых, кстати, было тогда предостаточно. Мишка отличался от всех нас бойкостью характера, граничащей порою с хулиганством, за что носил прозвище Махно. Учился Махно неважно, а за нарушения школьной дисциплины его часто переводили из одной школы в другую, главным образом в те, где директорами были мужчины. Но это мало помогало. Не было мало-мальской драки, чтобы в ней не принимал участие Мишка, и потому часто попадал в милицию. При всем этом Мишуня имел одно увлечение, которому был предан душой и сердцем…
Жил в то время в Оренбурге пользовавшийся большим и заслуженным авторитетом майор милиции Греков (да простится мне – я, к сожалению, не помню его имя и отчество) – гроза всех хулиганов. Помню, что он был средних лет, высокого роста, с приятным интеллигентным лицом, с небольшой клинообразной бородкой, за что носил прозвище Борода. Случилось это летом 42 года. Не вспомню подробностей, но хорошо помню, что мой дружок в очередной раз попал в милицию. Посадили его в камеру, набитую задержанными. Сидит Мишуня в ней и распевает песни. Проходивший мимо камеры Греков, услышав, как кто-то поет приятным голосом хорошо известный романс «Я возвращаю ваш портрет…», приказал дежурному открыть дверь. Пение прекратилось. Войдя в камеру, Греков строго спросил: «Кто пел?» Ответом было молчание. Он повторил вопрос, и Мишка робко произнес: «Ну я пел. А что – уж и попеть нельзя?» Греков внимательно посмотрел на него и произнес: «А ну-ка, певец, марш за мною!» О чем Греков долго беседовал с ним, я не знаю, да и Махно никому об этом не рассказывал, но вскоре стал Миша учиться в музыкальной школе.
Прошли годы. Я надолго уехал из Оренбурга и на время потерял моего друга из вида. В 1970-х приезжаю в Оренбург, еду с вокзала по Парковому проспекту и вдруг мне на глаза попалась афиша, на которой большими буквами напечатано: «Михаил Капланский». Попросил водителя остановиться. Подошел к афише и глазам своим не поверил: «…В 19.00 в зале областной филармонии состоится концерт Оренбургского вокального ансамбля солистов... Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Михаил Капланский». С афиши на меня смотрело знакомое лицо моего друга Миши – Махно. Но теперь это был Михаил Юрьевич Капланский, хорошо известный не только в Оренбургской области, но и за ее пределами. Давно нет в живых Грекова – человека с большой и добрейшей душой. Побольше бы нам таких прекрасных людей! Три года назад не стало и моего друга. Вечная им память.
Музы не молчали, когда гремели пушки. Я с чувством глубокой признательности вспоминаю наш тогдашний кинематограф, Оренбургский драматический театр, театр оперетты. Артисты своими фильмами, спектаклями вселяли в людей уверенность в Победе и помогали им преодолеть все невзгоды военного лихолетья. Спасибо им за это и низкий поклон.
Так жил я и многие мои оренбургские сверстники тех далеких лет, на которых в 41 году обрушился беспощадный и жестокий Молох войны. Нам, как и всем людям нашей страны, за 1418 дней и ночей войны пришлось перенести колоссальные нагрузки. Наравне со взрослыми мы стойко переносили голод и холод, горечь поражений Красной армии в первые месяцы 1941 года, утрату родных и близких на фронте, ужасы варварских бомбардировок и артобстрелов, муки и страдания эвакуации.
И вот она – долгожданная Победа! Я хорошо помню 9 мая 1945 года. Помню голос Левитана: «Война окончена… Германия капитулировала… С Победой!» Помню улицы Оренбурга, заполненные ликующим народом. Но ни я, ни мои сверстники, ни толпы тех радостных людей не могли себе представить тогда, что Великая Отечественная война и Великая Победа, одержанная нашим народом и Красной армией, подвергнутся ожесточенным нападкам, фальсификациям и грязной клевете. До какой же степени маразма надо дойти, чтобы подвергать сомнению героизм и мужество наших солдат и офицеров, утверждать, что Победа достигнута только тем, что не жалели и клали на полях сражений миллионы жизней наших парней. Преподносить историю страны, в том числе историю Великой Отечественной войны, только в черных красках, педалируя негативные ее события, как это делается в иных телепередачах. Почему бы этим господам, рассказывая о мрачных событиях истории вообще и войны в частности, не вскрыть объективно, со знанием дела причины таких событий? Кто вам, господа хорошие, дал право называть моего отца и миллионы других фронтовиков мародерами и насильниками? Зачем вам понадобилось отдельные безобразные факты, которые имели место на фронте, обобщать и переносить их на наших отцов? Не это ли все, в конце концов, привело к глумлению над могилами воинов-фронтовиков, к торговле их орденами и медалями, да и ко многим другим актам вандализма, с которыми, к сожалению, приходится ныне сталкиваться?
Война была Великой Отечественной и Победа в ней была Великой, ибо вопрос стоял о жизни и смерти нашего государства и спасении его народов от полного уничтожения и порабощения гитлеровским фашизмом. Ко всему можно привыкнуть – к тоске, к беде, к одиночеству, только не к горю утраты жизни родных и близких. Никуда от нас не уйдут московская осень 41 года, 900 ленинградских блокадных дней, отчаянная решимость защитников Сталинграда, ужасы Освенцима и Дахау, холокост, миллионы калек и умерших в госпиталях Урала и Сибири, миллионы бойцов, чьи кости безымянно разбросаны по брянским лесам и украинским степям. Они живут в нашей памяти – без малого 27 миллионов человек. Тем, кто рьяно пытается принизить нашу Победу в Великой Отечественной войне, хотелось бы задать только один вопрос: что было бы с ними, если бы наши деды, отцы, матери, сестры и братья ценой своих жизней не победили гитлеровский фашизм?
Я не собираюсь никого поучать и не ставлю себя в пример другим. Мне просто хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, с которыми встречался, о моих друзьях и товарищах. Может быть, это поможет кому-то задуматься и кое-что понять.